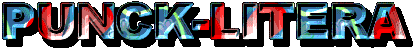
ВСЁ ТЕ ЖЕ ГАДЫ
Повесть Михаила Дмитриенко
или Русские в 2000 году
Повесть о нерадивом племени, взявшем начало от Великороссов, расселившихся по необъятным просторам Российской империи, а затем и по невозделанным целинам, стройкам и рудникам не менее великой империи Советский Союз, племени, которое своею жизнью и судьбою потомков возвеличило и облагоденствовало доселе дикие края варваров и дикарей. Буйством и удалью снискавшее любовь и ненависть местных народов, благодарность и не благодарность чёрную потомков, злобу, страх и зависть соседей, но также и уважение.
Повесть о Сыновьях, которых предали на сечу великую, да и забыли о них... И вычеркнули из списка живых, и прочь погнали от порога в годы голода, холода и усобиц.
Повесть о народе обезличивающее именуемый РУССКОЯЗЫЧНЫЕ, но он сохранил в себе Веру и Правду своих корней, язык и обычай, и надежду неискоренимую в Россию, как в мать, а не мачеху.
ВСЁ ТЕ ЖЕ ГАДЫ
1
Первый этаж, окно во двор, унылые пятиэтажки вокруг. Обитатели деловито-бесцельные существа, соседи почти всё дрянь. Мерзко и скучно тут пребывать, но и в этой, всем знакомой серости, бывают яркие и достойные мгновения.
Я сижу в красной рубахе у открытого окна. Все могут видеть мою задумчивую рожу - небритую и вопросительную. Серьёзные мысли в моей голове.
Это ничего, что я голоден, что курю дрянные сигареты из самых дешёвых и время от времени плюю за окно, на плешивый газон и на одинокий куст чахлой сирени, ничего. Второе, то что у меня гремит музыка - хэви-метал, или панк-рок, неважно - и то и другое мало кому по вкусу, а мне по х..ю! Мне нравится. Другим нравится блевать у меня в подъезде, прямо у моих дверей. И этим, другим, также пое..ть нравится мне их блевотина или нет. У них животная проблема - потребность блевать, у меня - слушать рок на пару децибел громче. Они икают, я их заглушаю. Всё ровно. Разница лишь в том, что им на мою музыку достаточно закрыть окна иди спуститься в подвал, а мне их блевотину приходится перешагивать каждый день (нюхать не рекомендую, токсично!). А после, когда мне надоест, беру ведро, мешаю горячую воду с хлоркой и брезгливо смываю чужие грехи. Матерюсь, разумеется.
Сейчас я таков и если не пьян, то довольно тихий, отзывчивый и в меру претенциозный тип.
Когда я был поэтом, а я им был, так точно утверждают некоторые люди, из тех которые терпеть не могут стихов, я был толстомордым, с пузцом, с длинным немытым волосом и голодным взглядом на женщин. Я их рисовал и рисовал в самых распутных позах (и не нахожу стыдным признаваться). Рисовал, как хотел, не более.
Тогда меня мучила постоянная изжога; то ли от желчи, то ли от грубой варварской пищи, не-то от одиночества. Я пил натрий двууглекислый, разводя его водой и добавляя для шипенья лимонной кислоты. Был нетерпим и высокомерен, и мне было глубоко и почти на всё срать. Да и поделом. Всякой х..и кругом невпроворот.
Теперь я просто Макс - Макс моё имя, а раньше звался Мишелем. Иногда ласково, иногда не очень: "Мишель, зае...л ты всех своей х..й!" - так говорили мне подружки о моих стихах. Тоже верно, зае..л.
Теперь я похудел, подстригся, изжога дело прошлое. Хотя пища не стала более изысканней, а одиночество .................... одним словом.
Голодный взгляд на женщин стал прямо волчий - безнадёжно волчий.
Кто знает русский язык не по-Далю, поймет, что я имею в виду, когда ковыряя ножом табурет говорю: "Обезляжка".
А вы попробуйте ссать 10 лет и не выть от мысли, что вот этот серенький член - бесполезный член. И создан Творцом для того, чтоб им только и делать - ссать! С такой вот целью, с таким известным смыслом и предопределением создан!
10 лет до этой минуты и, видимо, столько же в перспективе... Без всякой нужды пропадает работоспособный орган. Во цвете сил...
Вы не подумайте, что я жалуюсь. Вы попробуйте, попробуйте. Попробуйте и не выть.
Я уже не такой наивный мальчиш, каким был лет 10 назад, в чудеса не верю и призывам "не зарывать таланты в землю" не внемлю. Много я их зарыл, талантов. В дерьмо.
Зато я думаю и в голове моей серьёзные мысли.
Так постепенно я становлюсь атеистом. Безбожником был всегда.
2
Похитители моих идей. Я их не видел месяца три-четыре, не видел бы еще столько же! Я несправедлив к ним, а кто к кому справедлив!
Они заявились ко мне ровно в восемь ноль-ноль, утром. Я их впустил, они вошли. Тихо и скромно, почти беззвучно звякнули полные бутылки в пакете у Джона, Маэстро через чур уж громко щёлкнул кнопкой диктофона в кармане. Я зашипел на него.
Похищая мои идеи, Джон полагается на память, Маэстро на диктофон. Но этого им мало, они ещё спаивают меня горькой.
Моя мама еще спала, но у неё феноменальный слух на звяканье бутылок с алкоголем. Через десять минут, после непродолжительной словесной борьбы (за выживание), она выставила моих товарищей за дверь, и я отправился следом.
Так и надо, это и прекрасно! Свежее утро, два старинных приятеля, никакой головной боли и забот. Пакет увесист - в нём залог сегодняшнего дня.
Так должен начинаться каждый мой день!
Было воскресенье, утренняя тишина, мы молча шли, посвистывая каждый своё. Дворники и граждане обыватели мирно отсыпались, не ведая и не желая ведать кои беды принесёт им день грядущий. Лишь пышнотелые колыхались молочницы и вопили в глотки свои извечные рекламки. Да, ещё суетились деловитые дачники в мятых плащах и резиновых сапогах. Лишь сошел снег, так они схватились за свои рюкзаки, авоськи и кинулись на свои частные земельные угодья. "Готовь сани летом" - весело гыкали они. Но дачники нам не конкуренты, мы ведь едем за туманом, а за рублями, как известно, едут только дураки... Или наоборот?
Ещё один контингент присутствовал на утренних улицах города. Бомжи, те что выжили в январские морозы, весело рыли дымящиеся мусорные кучи. Бог в помощь...
Мне было хорошо и я совсем не завидовал всем сладко спящим в своих уютных кроватках. Даже тем, кто время от времени вскакивал на миг в холодном поту, тревожно озирался, тряс головой отгоняя кошмар, а потом, нащупав влажной ладошкой тёплую жопу своей милашки, усмехнувшись самому себе, засыпал снова. Особенно не завидовал я тем "жировым" буржуям-бандитам, которые до утра прели в барах, ресторанах иль клубах, жрали ароматные шашлыки, глотали стаканами пойло (по десять долларов стакан), бросались чёрною икрою и пачками денег в рулетку. Я - сейчас и здесь - иду здоровый, весёлый, наслаждаюсь прекрасным утром и дуновением ветра. Жизнь! Закат пропустил, рассвет проспал, зато весь день впереди! Солнце!
А те - серые, мясистые, рыхлые - они ворочаются и не могут спокойно уснуть; привычно прокатали ночь, потом потели и жутко икая не могли попасть своей либидозной конечностью в жировые складки своих сегодняшних подруг. А позже, так толком и не сумев, так и не заправив в трусы липкие тестообразные свои жалкие органы с громкими названиями, истратив запасы влаги на слюну, мочу и пот, они страдают жаждой, неутолимой и досадною, головной болью, тошнотой, судорогами... В общем, тем неизъяснимым чувством, которое вкладывается в круглую фразу: "Жизнь дерьмо!". Идиоты. Жизнь не дерьмо, нет господа, дерьмо присутствует в жизни лишь как элемент - неприятный, но необходимый. И мне почему-то кажется, что этот элемент - это вы, господа.
Неприятны вы, что и говорить, но и необходимы. Зачем? Да затем, чтобы такие элементы как я, могли б наслаждаться красотой мира. И пускай вы за это сожрёте мой кусок хлеба с маслом! А сейчас вы стонете и глотаете воздух. Конечно, из всего вы выкрутитесь, ещё бы! Будете лечить последствия кутежей разными штучками - шипучими таблетками, ваннами, массажем... Хотя, по справедливости жизни, следовало бы принять пару гранул цианистого калия...
В безмолвии стоим на перекрестке, отсюда два пути: вверх и до ближайшего парка (далеко), влево - очень привлекает - там речка с густыми зарослями кустарника. Место испытанное, хорошее, много злачных пустырей, но попадаются извращенцы-дрочилы и повсюду дохлые собаки и кошки. Бывают менты, но... но мы ведь быстро бегаем. Я ломаю шаблон, мне жаль такое утро жертвовать в угоду рутинной пьянке:
- Орлы, поехали в горы!
В горы, значит в горы. Маэстро что-то протестующе молвил о клещах, об ужасах энцефалита. Но мы уже на остановке, где загородный автобус бодренько везёт нас в ближайшее ущелье. Но это так, предгорья, как образно говорят дельные мужчины-альпинисты: "Промежности". До настоящих гор далеко, они по-прежнему недоступны, сколько не едь к ним автобусом. Плевать, мы карабкаемся на ближайший бугор - прилавок - и вот мы уже покорители вершин! Особенный азарт в подобном лазаньи (порой на четвереньках) подогрет бутылкой вина, которую сделали ещё в автобусе.
"Эх, нет здесь моего последнего друга, Валеры! - с внезапной грустью думаю я - Мы бы с ним поорали, побуянили! Эх... ".
- Клещи, жратва пришла! - орёт благим матом Джон и с видом самоубийцы бросается плашмя на травы.
Джон - Женька - оболтус, храбрый, отчаянный малый, ему все 25 лет, он красавчик и мечта несовершеннолетних ссыкушек. А вот родители у него еврейские буржуи - значит буржуи вдвойне, буржуи в квадрате. Они умеют обжулить ближнего своего, то есть законно обокрасть слабого. Им до мозга костей родственно чувство собственника и стяжателя - такое скучное чувство. Оттого им ничего не жаль для собственного сына, даже денег. И пусть он был бы распроклятой скотиной! К счастью Джон не скотина, напротив - приятный юноша с веснушками и грустными глазами. Он кое-что перенял от меня и теперь преклоняется перед Че Геварой, Лимоновым и Егором Летовым (слышали такого, ну "Г.О", или "Егор и Опи..шие"? Слышали, значит, порядок).
Джон сам нахлебник, а мы у него халявщики. Он целыми днями в своё удовольствие сидит за компьютером и иногда там же пишет стихи. Эти его стихи дрянь, х..я, вроде его компьютерных игр. У Джона есть дама сердца - прыщавая тёлка акселератка с подозрительно курносой физиономией, с нею Джон занимается оральным сексом (она девственница и доказывает сама себе, что эта плёночка не что иное, как чистота, честь и достоинство её непорочного имени). Ей он и посвящает свои стихи - не плёнке, конечно, а девке.
За Джоном мощные родительско-сионистские тылы и, я уверен, не сегодня-завтра он напечатает книжку своих стишат...
За Маэстро - Вадиком Блиновым - никто не стоит, он из крепкой пьющей пролетарской семьи (чего стыдиться-то?). Маэстро сам по себе. И даже внешний правильный, коммерческий вид он создал сам, тщательно изучив деловые журналы. По его собственному нескрываемому мнению он ещё покажет всем - всему, видимо, человечеству - кто есть Вадик Блинов, именуемый просто Маэстро. Покажет с чем его едят, вернее, что съесть его никому не удастся. Стихов он не пишет - Вадик слишком серьёзен. И романы ему не по вкусу; "Вот если бы сразу «Войну и мир» написать, тогда другое дело, а так, в исканиях да в рысканьях... не стоит время терять". Я думаю, Маэстро вовсе к искусству безразличен, хотя общается с нами исключительно по литературному интересу. Он собирает чужие оригинальные идеи, мысли и суждения, потом, в будущем, он склеит их все в необходимом порядке и издаст внушительную книженцию "Не для всех". Он спёр у Ницше фразу: "Некоторые люди рождаются посмертно", теперь он с нею носится, как шальной х-й с эрекцией, не знает куда уж ещё её всунуть. Под этими выделенными Н е к о т о р ы м и, он подразумевает исключительно себя, ну, может быть, ещё немного и самого Ницше. Такое его необыкновенное предначертание в нашем ужасно-прекрасном мире... А проще – хобби.
- Я горд уже тем, что многое собрал в систему, - важно глаголит Маэстро, особенно ударяя на слова "многое" и "система", машет указательным пальцем в небо: - Многие бы отдали многое за то, чтобы взглянуть хоть краем глаза...
Всё он врёт - не видит и не чувствует он никакого своего особого предначертания, и на диктофон пишет для солидного снобистского вида. И Джон ему гораздо интересней меня - у Джона солидные родители, у тех связи, перспектив множество...
Маэстро потребитель, причём самого унылого вида - поедающий всё и вся, поедающий без аппетита, без азарта, поедающий так, словно член общества, честно выполняющий свои обязанности. Он беззлобный тип, потому мы с Джоном его и терпим. Социального статуса Маэстро я не знаю. Благообразен, но люмпен...
Мутный вид открывался с нашего бугра; соседние изгаженные, кажется дерьмом, бугры и город - словно игрушечный, в тяжелых сероватых утренних испарениях. Но, несмотря на такой "пленэр", окружающие нас далёкие горные кряжи вызвали приступ глупейшей радости.
- Ха-ха! Гы-гы! - заржали и запрыгали мы индейцами. Джон потирает лапы, принюхивается и вопит: - Наконец-то мы, братья, вырвались из Содома! Здесь и воздух, и мысли, здесь всё!
- После Интернета, небось, как дубиной валит? - издевательски замечает Маэстро Вадик - Поэмы здесь и только здесь рождаются, да? Скажи, поэт.
"Поэтом" он называет меня, всегда с какой-то не самой лучшей иронией. Я молчу и помогаю Джону расстилать газеты и выкладывать на них содержимое.
- Поэмы тоже, - отзывается Джон - Грязновато здесь, Бахчисарайский нефонтан, но пойдёт, воля! Мощь земли русской!
- Азиатской, жолдас, азиатской...
- Какая х.. разница! Мы космополиты!
Наливаем, выпиваем, закусываем. Болтаем некоторое время о пустяках. И вот, как обычно, заходит разговор об этих - длиннокрепконогих, круглоширокозадых и об твёрдоострогрудых. Маэстро хихикает, обгрызает куриную ножку и начинает цеплять Джона:
- Ты, Джон, всё в своём ненастоящем, виртуальном...
- О чём ты, где ненастоящее? Вот мы, вот горы, вот водка.
- Да так, я в общем, о жизни. Не соприкасаешься ты с реальной, с самой настоящей стороной жизни. Родители всё у тебя...
- Ладно, конечно родители, - мирно соглашается Джон - Еще что?
- Да ничего. Ты, Джон, для композиции, и вообще, для полноты ощущений, захватил бы ещё Светланку (ту самую - прыщавую, курносую и оральную) - Маэстро Вадик говорит это с добродушным и даже весёлым видом, но он зол, он отчего-то всегда зол. Его злость не такая, не опасная, она чем-то напоминает досаду; "Вам хорошо, вам повезло, а мне нет, ну я плесну за всё ложечку дёгтя...".
Я знаю, в чём дело, но мне нет дел до чужих неудовлетворённых потребностей, у меня самого их не считано...
- Знаю я вас! - не замечая злости Маэстро, отзывается Джон и неловко откупоривает следующую бутылку - Полезете к ней, знаю.
- Знаешь? - Маэстро подмигивает мне - Ну так скажи - тебе Светланку, а нам? Чего нам?
- Ему Светланку, нам пьянку, - закрыв глаза и думая совсем об ином, подсказываю я.
- Верно! - горланит Маэстро Вадик - Зализывай Светланке её ранку!
- Ха-ха-ха! - смеёмся пьяные и одуревшие от простора - Га-га-га!
А в целом день прошёл скучно, я так и не напился как следует, а как, вообще, следует-то? Только вечером, встретив милашку соседку, мысленно трахнул её самым изысканным оральным способом. Вот и всё. Зачем об этом писал, не знаю.
Люблю ли даму,
Иду ли пьяным, Финал один - разбита рожа.
Бухло не секс,
А секс не бокс,
А в результате одно и тоже.
Так обо всём этом отозвался один поэт, ныне уже не живущий.
3
Что же с того, что я пью сам с собой? Кому от этого худо, кому не все равно? Одному мне с того хренова-то...
А за углом поют соловьи,
У монастыря Иисусова Сердца,
Поют, как пели в кровавом лесу,
Презревши Агамемноновы стоны,
Пели, роняя жидкий помёт
На саван, и без того осквернённый.
В деле оценки есть две безусловные вещи - мера и сравнение. В деле понимания происходящего (сегодняшнего), мерой является всё прошедшее, а сравнение - это умение помнить и находить нити связующие день вчерашний с днём сегодняшним. Помни все, что было и всё что есть. Тогда и поймёшь каждый свой миг правильно.
Помню, в детстве, когда жил в далёкой и пыльной деревне на отшибе Советского Союза, на китайской границе, был улыбчив и страшно любознателен. Мою улыбку все любили, особенно женщины и сейчас улыбаюсь, но почти не смеюсь. И у женщин моя улыбка уж немногое тревожит. А тогда... Некоторые дамы, те что одиноки и бездетны, приходили к маме в гости, пили чай, болтали. И вот иногда, повинуясь порыву нежности, вдруг наклонялись и смачно целовали меня прямо в губы. "Ах, какие губки, прямо розочки!" - говорили они. И всегда мне это было неприятно. Но что-то всё же было в этом такого, волнительного. Э-э-эх, и дурак же я был! Но однажды поумнел, если так можно назвать; я как-то схватил одну ещё молоденькую женщину за грудь. Отчётливо помню упругую, словно напрягшаяся мышца, классической формы эту часть женского тела. Тут же нечто шевельнулось во мне, может в сердце, может в штанишках - не помню, только такого острого ощущения первой радости я больше никогда не испытывал. Почти никогда.
Тогда толкнул инстинкт, наверное, сейчас мною руководит разум, и чёрт бы его побрал! Та женщина тогда вспыхнула, вскочила - всё это на мгновение, а потом рассмеялась, и смех её был ласков. Она взяла мою грешную руку и нежно похлопала по ладошке (изобразила наказание), сказала тихо, только чтоб я один услышал: "А ты шустрый... Но тебе ещё рано". И это было приятно, хотя я и смутился ужасно. И было мне тогда, дай Бог памяти, лет 9-10. К тому времени я уже был неплохо осведомлён в вопросах взаимоотношений полов. Теоретически.
Потом я ещё много перехватал разных сисек, полазил в ихние трусы, а наподглядывал-то!.. Ну и прочее, разумеется! Тогда я впервые столкнулся с парадоксом; самые дешёвые и распутные девки, само дорого обходятся.
Так общался я исключительно с подругами моей старшей сестры. У них уже кое-что выросло, округлилось где-надо, и им нетерпелось это продемонстрировать, меня же можно было не стесняться. Тем более мои половые достоинства их совершенно не интересовали (что справедливо в отношении такого сопляка). Они позволяли, как бы случайно, а где и откровенно и нагло заглянуть, погладить, потискать. Глупенькое девчачье самоутверждение в роли женщины! Но порою и чисто стервозное - хлоп по руке! В самый-то самый момент! "Куда? Вот я тебе сейчас! Ха-ха-ха!". И снова задирание юбок, игры с точными сексуальными движениями, прижиманиями - игра, игра на провокациях... Бесстыдно, но Иисусе - как чисто!
Это было время когда я не думал и в голове не роились серьёзные мысли, оттого это было временем, когда мне везло, а по рукам били нежно.
Сейчас, слушая всю израненную Янку Дягилеву и сгорающего Александра Башлачёва, я сам, утративший всё самое драгоценное в своей душе, не сумевший и не посмевший посягнуть на Большее, горько жалею. О чём? Ну вас, не скажу.
Всякие самолётики делал, парусники. Хотел раз сделать аэросани, не получилось - не хватило материала. С приятелями, которые уважительно называли меня Изобретателем, классе эдак в 6-ом, начал делать космический корабль. Мои чертежи оказались понятны лишь мне самому, но по сравнению с аэросанями, постройка звездолёта продвинулась гораздо дальше. Что значит опыт!
Страсть к морю, к военной технике, Истории осталась и поныне, должен был бы по Его неведомому замыслу стать или моряком, или военным, может быть, даже астрономом, не стал. Стал выдумщиком и фантазёром - поэтом и писателем.
Так всегда происходит у тех, кто из-за лени не выучится на специалиста из своей мечты. И был я поэтом лет десять, пока не понял - дрянь всё пишу. И бросил. Теперь никто. Что-то упустил важное, ещё раньше. И - никто...
Драться не любил, но дрался. Жизнь вынуждала. Не часто, но с последствиями. Мирный был, животных любил и горько жалел несправедливо обиженных, опять же улыбка такая добрая. А когда закадычный дружок Серёжка Мартынов, выше и толще, и сильнее меня раза в два, разбил мне голову камнем, мне было больно, но не обидно, потому как я тут же ухуя..л его палкой по руке и второй раз, с оттяжкой по его наглой конопатой роже. Разбил нос в кровь, рубаху его любимую, кажется синюю в полоску, порвал. А он мне ещё вчера пугач без гвоздя подарил... Он тут же разобиделся, а мне даже как-то приятно стало, видно мстительность сидит где-то в крови, в глубине души. А может нехорошая разбойная наследственность, запорожская. Потому и не обидно мне было на Серёжку Мартынова, даже тогда, когда он вопреки всем не писанным пацанячим законам пришёл ко мне требовать назад свой пугач и ещё какие-то там штуковины. Я отдал и по-прежнему считал его своим хорошим приятелем, да и пугач-то был без гвоздя... Кровью значит его удовлетворился.
Сравнивая с сегодня, я не нахожу ничего для себя утешительного. И обидно - если-что не мщу, опять же если-что удовлетворяюсь водкой, и кровью - уже своею. Да и пью эту водку, как пёс, сам на сам. Не алкоголик, но не с кем. (Да и лучше пить с собой, чем с кем попало).
И хреново мне от этого.
Мудрость - собственность мёртвых,
Нечто не совместимое с жизнью, а сила,
Как и всё, что окрашено кровью –
Достоянье живых.
4
Да, хреново и от многого другого.
Да и на кой х.. об этом трепаться? Всё равно! В смысле всё равно плевать самому на себя иль позволять другим это делать. И я, и прочие... Забили на такие душевно-эстетические тонкие материи свой толстый и не всегда мытый... Иль бабы, те п..у вытаращили. Завсегда так. Безнадёга!
Хотя мне-то всё-таки больно, ходят ведь по мне своими сапожищами! Хочется же приятного и хорошего, чистого. Как эстетическому типу (но, кому хочется иного, даже типу неэстетическому?). Хочется. Где?
Мои стихи, желательно в это верить, не совсем дрянь. Но факты... И чтобы не говорили в их защиту мои близкие (из тех, что не любят стихов), даже то, что их печатали пару раз, всё говорит против них - хорошие стихи сегодня не печатают. Хороших поэтов сегодня охотно берут в сторожа или в дворники.
Что важнее - сам поэт иль его творенья? Важно одно - насколько этот поэт может выразить свою уникальную душу в стихах, насколько он помнит прошедшее и правильно понимает настоящее, предвидит грядущее. Слова, которыми он владеет - немногими и тёплыми, теми которые именно н а д о. А это значит - насколько его стихи могут влиять на умы и чувства читателей (средь которых большинство снобов и сексуально неудовлетворенных дамочек). Поэт тогда поэт, когда ему внимают.
А всякий ли талант умеет ещё рыть землю человечьих мозгов? Поэт одарён талантом п о э т и ч е с к о г о слова, но речи дельца может быть лишён. Это печально, но не ущербно. Но убедить...
Если уж я глупой, но смазливой девочке не могу внушить, что я поэт и одним уж этим могу быть интересен, как крикнул великий В.В. Не могу протрахать её мозги, а затем уж ея самое... Нет, не могу. Не заинтересовал. Не внемлет.
Если я родным и близким, разлюбезным друзьям-сотоварищам, братанам поэтам не могу толком себя высказать речью русской, чтобы поняли, такого как есть, чтоб приняли - ну не совсем же я говно! Чтоб, там, посочувствовали или, ну хочется, чтоб приголубили. Помогли и за меня этой глупой девочке растолковали, что: "Он поэт и тем одним уж интересен".
Если я... То на кой х.. мне писать прописью?! Какой я на х.. поэт? Кому и чего я смогу в своих ху..х стишках поведать? О том, что неудачник, что бесполезен, что выхода не вижу? Бессилен на словах взлететь, а в поэзии, что - орёл?
Нужно чтоб сам летал и других взлететь научил!
Нужно так: сказал - всем ясно - Истина! Верят, следуют, жертвуют.
Я понимаю - Достоевский; написал, тиснулся в печати, все купили и прочли, приняли и крикнули: "Мастер!". Что, модный писатель? - читали, читают... Всяк прочел. И ужаснулся, и прослезился, и все внутренности-с перевернулись (у кого что есть внутри) - силища! И на те, извольте - взгляды, хоть на крупицу, переменились в благую сторону. На вещи, порядки - новая жизнь! Просветление! И муки и радости очищают.
А вот и девочки - мечта достойных - как по команде, срывают шляпки, танцуют канкан пред великим... Иные, что самые прелестны, молча, кусая губки, мочатся в трусики...
Я понимаю - великий! И всё же я был поэтом, только доху..я вопрошал: "Где вы мои читатели? И где мои поклонницы? И где мои гонорары?".
И верно, где?
5
Живу я в дрянном доме в центре Азии. До Китая - рукой можно дотянуться, до Индии - совсем недалече, под боком Ташкент - город хлебный. Всё рядом, сокровища лопатой греби, только тоска угрюмая, не такая, не восточная - с ленцой, с полудремой, а чисто русская тоска, такая, когда ничего не надо. Ничегошеньки. Выпить, напиться, нажраться, уху..ся мордой в канаву и блевать, блевать... Безо всякого повода, от тоски беспричинной.
Соседи, все как один, разные, но похожи на нечто серое в клетчатом, с востро-сонными глазами, глазками сыто-рыщущими. Девки - неуступчивые бляди, держат марку - они не продешевят, дешёвки! Думаешь, что разговаривают, а они хрюкают. Думаешь губки, ан нет - пятачки! Все, как один ненавидят хэви-метал, смотрят сериалы и смотрятся в зеркала кривые. Врут, обманывают, лгут! И самим себе в первую очередь.
Горе мне, горе! Ни одной живой чистой души рядом! Так бы и повесился под честную Янкину песенку:
"Я неуклонно стервенею...". Да в пи..у такую жизнь!
Стал бы на колени и если б в Бога веровал, то вымолил бы у него Ч е л о в е к а. Близкого, рядом. Что, у него, красивого человека, настоящего нет? У Бога-то! Для атеиста, да ещё такого придурошного из принципа подсунул бы...
Был бы Бог, а я-то уж вымолил бы! А потом так бы и стоял на коленях пред тем - н а с т о я щ и м, и пред Этим – Творцом.
Конечно, лучше пред нею. Где?
6
Вот, думаю, сейчас весна. Травка. Птички. Хоть дерьма собачьего кругом и навалом (соседская Жозька расстаралась жопой своею), а всё же хочется разуться и прийтись своими бледными ногами по травке. Ощутить беззащитность тоненькой кожи пред битым бутылочным стеклом.
А травка она одна лишь и щекочет...
А то, раздеться наголо, трезвым и весёлым, попереть по полям. Куда? Да по х..ю куда! Вперёд и всё.
Иль с Нею завалиться в этих травах и мять её, мять. Э-э-эх, обезляжка! Эх, да была б у меня пи..а, такому парню как я сам, всегда давал бы...
7
Был завод, я работал. Была каморка на работе. На стене висел портрет Че Гевары и флаг советский. Портрет бляди маркёром разрисовали. Красный флаг сп..и. А вместе с ним и флаг "Арии" - сам делал. На концерте им махал и кричал что-то вроде как ур-ра! А после концерта вдвоём с Лёшей Поляковым провожали одну девочку Олю - одну на двоих. Которая как-то мне на просьбу поцеловать её руку, ответила хитро: "Куда угодно, но не сюда". Хорошая была девочка. Жаль не воспользовался. А потом мы с Лёшей долго бежали по улице Каблукова, а за нами гнались шесть рыл поганых гопников. Они хотели нас волосатых отмудохать, и остричь, мы этого никак не хотели. Выручили бродячие собаки - они, целой стаей увязались за бегущими гопниками и кое-кого цапнули. У тех прошёл на нас аппетит, и всё. Мы долго над этим смеялись, покуда Лёша как-то раз вышел из дома и не вернулся. Пропал, вот уже лет десять как...
А мне, вот так же бы бегать от кого иль за кем. Да стриженого уже не подстрижёш.
8
Куда бежать, Мишель, куда? И зачем? Бежать некуда уже, потому что и пойти-то некуда. Не по травам, ни с Нею, ни самому. Ни к друзьям, ни к родственникам - их нет. К Валере - да где он? К поэту-алкоголику - на х.. ему я сдался! Некуда. Честный русский человек, как я, всегда одинок. А человеку, даже последнему, всегда нужно так, чтобы было куда пойти, обязательно. Чтоб оставаться человеком, а не существом и не тварью. Прав Фёдор Михайлович! И хоть скотина человек, да ко всему скотскому привыкает и со всем стерпится да слюбится, и жизнь свою прокоптит, но пойти ему куда-то обязательно надо, туда где ждут, куда хотя бы пустят. Пойти и поплакаться.
Мне некуда. Да и зачем? (Хотя и знаю "зачем").
Вон согнувшись, бредёт седой старикашка, важно так шествует, одет невесть как - согласно современному статусу пенсионера - зачем-то да идёт... Хоть и помирать скоро, и пожил дай Бог уйму лет, небось, накобелил немало, а идёт - надобность есть. Ему надобность иль в нём надобность.
Всегда так было и есть: именно те люди, которые могут помочь не помогают. Которым и помочь-то ровно ни какого труда не составляет, а нет - дохни, дескать, отставной поэт, отставной герой-любовник, дохни с тоски, с пьянства, от одиночества несусветного! Знай, зараза, говно жизни!
А сами жрут, пользуются. Не подавятся.
Своя ложка в свой рот завсегда в кайф лезет!
Вот вам Истина, истинно говорю вам.
9
Но не мерзавцы и не лжецы определяют, где и кому говно, где и кому цветы жизни.
А я люблю всё чистое, хоть сам порой немытый. Пускай б/у, пускай подпорченное, но чистое! И без вони. И без посторонних примесей, пылинок, волосинок чужих, без чужих следов на теле и без чужой спермы на простынях.
Мойтесь чаще, милые дамы, милые девочки, особенно тщательно соблюдайте гигиену души, если вообще знаете что это такое.
И встретил давно забытую подружку - знакомую знакомых. Двадцати летняя, современная, красивая девочка. Слегка подпорчена, но чистенькая. Уже прошла и в рот и в жопу, так что не удивишь, поэтами не заинтересуешь. Смотрит понятливо, даже через чур. Глаза блестят, слушает ли говорит ли - серьёзно и улыбчиво. Люблю улыбчивых.
И мысль у меня сразу родилась - простая мысль, но приятным морозцем от неё пробежало по телу; как только взглянул в уголки её глаз, уголки её губ, так сразу: "Трахну её, сегодня же! - такая мысль, естественная и правильная - Она обязательно даст, почему бы не дать? Трахну".
Не дала. Не трахнул.
Обидно ль мне? Обидно. Но злости нет, даже не сказал ей:
- Ну и х.. с тобой! - не сказал и даже про себя не матюхнулся, только вежливо пробормотал: - Извини...
Извинился и проболтался на углу, проводил её до дома, купил пива, в подъезде и выпили. На прощанье чмокнула в щёчку и сказала:
- Пока, дурачок, в другой раз.
Сказала так ласково, играя губками и синими глазами сверкая. И мне захотелось тут же, не дожидаясь другого раза, эти её синие стекляшки выколоть. Но не так, как поступил бы всякий пошляк, не пальцем и не гвоздём - она, в общем-то не виновата, сама жертва и дурочка, правильней сказать - сама дура потому и жертва. А выколоть глаза так, как великий художник, Мастер сделал бы: нарисовал бы её маслом - картина три на четыре метра, бесстыже обнажённой, в золотой раме. Чтобы получилось творение на века, другая "Джоконда", чтоб любой музей - будь то Лувр, будь Третьяковка - сразу миллион долларов за неё всучивал. Но взял бы, да и плюнул на этот говённый миллион валютой, а взял бы сорвал и кинул бы шапку оземь, заголив рукав разноцветной своей рубахи, обычным кухонным ножом, на глазах всего честного народа, гикнув, всадил бы этот хлеборез с противным скрипом в холстину и вырезал бы её первоклассно нарисованные глазки. И бросил бы их в грязь.
"Знай, сука! Для тебя творенье мировой цены гублю, для тебя эта жертва! Ничего для тебя не жаль, а ты дура-дурой, ноги не захотела предо мной раздвинуть!". И пусть она локти кусает, когда поздно уже.
И пускай мне было бы обидно, да и обделённому потомству обидно, да всем тем и этим обидно, сердце изглодалось бы. Все бы кричали:
- Дура! Из-за тебя всё! Клок плоти прячешь!
А ей - нет, ей не обидно. Так как блядь. И с того обидней вдвойне. Эх, пропадай во мне Модильяни!
А вот продай такой бесценный портрет - три на четыре метра - да тот миллион преподнеси ей и получай - она твоя, е..и её на здоровье. Не корчи из себя Герострата, е..и, только предохранялся.
И так обидно, что все вы девочки тем одинаковы - замаскированной продажностью. Продаётесь - кто за цветы, кто за болтовню ловкую, кто за вид, кто за копейку, кто за миллион... Всё на продажу!
Обидно, особенно если ты не великий художник, а просто нормальный честный парень живущий по-соседству. Обидно, честное слово - за вас обидно.
10
Сегодня самое примерное утро, примерное иным дням. Солнце, тепло, нет похмельного синдрома и в кармане деньги.
В 10.00 звонок - это пришёл мой хороший товарищ Константин Нортумберленд. Он тоже поэт и потому выбрал себе такой лихой псевдоним. В миру он Костя Раевский (тоже неплохая, на мой взгляд, фамилия). Костя иногда тусуется в богемных кружках, но богему не любит и презирает. Он особый поэт-аннигилист. Всё что он пишет обычно несовместимо, как частица и античастица, но он совмещает и тогда результат потрясающ - взрывоопасен. Его стихи напоминают мне один флакон с жидким нитроглицерином, на котором приписана фраза: "Перед употреблением встряхнуть". Его стихи недолго живут - их пожирает аннигиляция. От них остаётся дым, пепел и неведомые кванты света. Нортумберленд примерно раз в три-четыре месяца, в ночь с полною луной, словно восставший из гроба Гоголь, торжественно сжигает странички своих творений. Иногда приглашает меня. Мы глотаем едкий дым, пьём и палим. Это очень верное средство от скуки, я пробовал.
Как раз тогда, когда я нерадостно размышлял над словами: "Дурачок", и "В следующий раз" - (на х.. мне следующий раз, когда этот раз издох?!), тогда-то меня захватил и увёз к себе Константин - в "деревню" - в частный сектор, где он живёт вместе с бабкой, которая, кстати, весьма хваткая старушонка... Увёз на очередное аутодафе. А я с удовольствием согласился.
Но домой к нему мы так и не попадаем. Дело в том, что Константин набрал спиртного человек на пять (на акт уничтожения, поэт всегда берёт всё лучшее, сегодня это водка "Абсолют"), и его бабка караулит нас за квартал - милая старушка, божий одуванчик при случае тоже не прочь хлебнуть за троих. "Ладно, - сказал Костя - Сейчас куда-нибудь завалимся, а под вечер дворами ко мне проберёмся". Он уже загодя сложил за сараем, под яблоней дровишки на костёр, приготовил стол и стулья, в холодильнике ждала жареная курица и прочий закусь...
Хотел было я сагитировать Константина отправиться к Валере - он где-то поблизости обитается, но тот опередил меня категорично заявив:
- А сейчас пойдём к попу.
Этот поп, скажу вам, личность примечательная. Его описать довольно сложно, я был у него уже раз и до сих пор потрясён и самим отцом Илларионом и тем, что его до сих пор держат в церкви. Будь я патриархом Всея Руси, сослал бы такого на Соловки. Мощный глас и величественный вид - за это его видимо и ценят. И тем же мощным басом он произносит порою: "Анафема тебя в п..у дери!" - самое мягкое и богобоязненное его ругательство. Он вовсе не обновленец и тем более не какой-нибудь срамной модернист - он закоренелый ревнитель веры православной, просто; "В миру говори мирским глаголом - в стаде блей, в стае вой, ну а попадёшь на небеси - пой". Такой вот отец Илларион, впрочем, когда батюшка накидается горькой, то благодушно разрешает звать себя просто Жориком.
- А, блудодеи! - встречает нас дородный мужик в полосатом больничного типа халате, в джинсах и тапочках на босу ногу. Из-под мохнатых бровей по-распутински блестят глаза, большой крючковатый нос неопределённо-кумачового цвета, ручищи - волосатые грабарки (говорят он ими запросто рвёт напополам кур и гусей, равно как зубами рвёт забитый в стену гвоздь сотку. Насчёт гвоздей, верно, сам видел, на вот что касается убоя птицы... враньё, батюшка хоть и свиреп с виду, по сути не лишён любви Господней к тварям разным). Говорит он невероятным басом, слегка растягивая слова и комкая их в густую бороду. Он сидит в саду за грубо сколоченным столом и при нашем появлении отбрасывает в сторону игральные карты. Он в саду один и с кем играл неведомо, может быть, с бесами? Может быть...
- Услада души, но и бренного тела, - гудит отец Илларион бережно принимая от Константина сумку с водкой. Внимательно изучает этикетки на каждой бутылке, удовлетворённо крякает, осеняет нас крестным знамением, крестит свою чёрную густую бородищу и решительно кричит: - Значит-то, начнём, Глаша!
Мы удивлённо переглядываемся - поп живёт одиночкой, но от него можно ждать чего угодно. Из дома на зов выходит заспанная ладная девица лет 28, в прозрачном розовом халатике из китайского шёлка. Весьма недурна собой, притом манер самых непосредственных. Она, глотая слова что-то говорит попу, голос приятный, низкий и слегка хриплый - курит наверняка! Батюшка даёт наставления насчёт закуски, деловито пересчитав чего и сколько поставить на стол, чего не трогать, по-отечески хлопает её под зад, отчего та вся колышется и, ощерив зубки хмыкает.
- Не вводи во искус, приоденься. Гости, - добавляет батюшка добродушно.
- А это кто такая? - наивно хлопая ресницами и так же улыбаясь, спрашивает Константин, когда Глаша уходит.
- А это, Костюшко, блядь, - серьёзно и конкретно отвечает отец Илларион и, не вдаваясь в подробности строго добавляет: - Моя.
Часа через три мы уже готовы на любые подвиги, а Жора, как служитель культа, поддерживаемый духом святым, всё ещё лишь под шафе. На наши многозначительные взгляды и кое-какие Костины вопросы о Глаше, батюшка отвечает как-то витиевато и скользко; мол, живя в миру мирского не бойся, а смело встречай искусы сатанинские, тем более греха тут нет и сам Господь велел. Наконец выдаёт:
- Мы е..м и нас е..т, экклезиаст... - негромко рокочет он и отправляет бойкую Глашу в магазин за следующей бутылкой (наш запас растаял, как мартовский снег) - Время воздержаний и время наслаждений... А то зачем Ему щёлку девичью творить надобно было б? Да украшать её так искусно?
- Так Сатана же, Люцифер всё это... - возражаю я – Дьявол и геенна...
- Не-а, не Сатана, любовь от Творца, и бляди также, потому как приятны и, баста! Пить хочу! Да где её, п..у блудливую, черти носят!
- А скажи, Жора, только честно скажи, - неожиданно влезает взъерошенный заикающийся Нортумберленд - Бог есть? Только без п..ы, есть?
- Есть, Костюшко. - рокочет батюшка, встаёт и, не глядя на нас нетвёрдой походкой (батюшка в пьяном виде слаб на ноги), уходит в дом. Минут десять его нет, сразу воцаряется тишина - кто знает, что этот шальной поп сейчас может выкинуть? Говорили, что он как-то, ещё в те, в советские времена, грозился будто бы ружьём участковому милиционеру - батюшка, мол, раздобыл где-то небольшой, но звонкий колокол и подвесил его на чердаке и время от времени, когда бес одолевал его, начинал что есть сил трезвонить. Бес одолевал батюшку чаще всего по ночам, и назойливый набат будил округу. Эти несерьёзные вещи и послужили причиной серьёзных последствий. Обеспокоенная округа сообща известила батюшку, чтоб он "прекращал свои постыдные деяния и еженощный набат прекратил", на что батюшка заявил, что "набата никакого вовсе нет, а се есть благовест! И шли бы вы, мол, на…", и начал трезвонить пуще прежнего. Случилось было рукоприкладство, но батюшка в тот злосчастный миг оказался пьян до чёртиков, а так как он вообще мужик дюжий, а под градусом ещё и неукротим, то и пришлось вмешаться милиции. Нортумберленд по-пьянке даже такое выдал, что отца Иллариона преследовало КГБ и будто бы сам "Голос Америки" за него вступился.
Глаша что-то задержалась, а прохладный вечер грозит нам насморком. Константин только и успевает вопросить: "Куда это они подевались?" - как в калитке появляется весёлая Глаша, видно кто-то уже успел её рассмешить и тут же дверь в доме с грохотом растворяется, от соседей, из-за забора слышен испуганный старушачий голосок придушенно запричитавший: "Свят, Свят, Свят!"...
На пороге в ореоле сияния предстал грозный и величественный Отец Илларион, с горящими глазами, с патриархальной (исторической) бородой, мягкими кудрями спадающей на праздничную рясу, со крестом ослепительно сияющим на толстой цепи, без сомнений литого золота! Блеск! Вид поразителен, преображение хмельного распутного попа Жорика в поверенного Творца, Господа и Спасителя феноменально! Фантастика или мираж? Мы встряхиваемся, как мокрые куры, и сразу нам становится ясно, что Бог есть - какие уж тут сомнения! Аксиома! За почти расстригой вдруг высветилась вся двухтысячилетняя мощь христианства. А это не шутка, даже если всё это время миллионы попов валяли дурака, нам не справиться с таким вселенским умопомрачением.
Отец Илларион царским жестом, полным величия, но и снизошедшего мудрого человеколюбия, простирает на нас громадную руку, и тень её покрывает нас. И мы уже христиане, православные и уже готовы каяться и подносить дары. Лишь завтра, сквозь головную боль мы перестанем быть новообращёнными и тень от руки отца Иллариона сравним с тенью мрачного средневековья, а эффект мгновенной веры спишем на театральность - на постановку, а всё её волшебство в яркой лампе дневного света за спиной блистательного актёра - христианнейшего и хитрющего попа. Пропаганда! Всякий мессия прибегает к эффекту рекламы; игре света и тени, необычайности помпезных одежд, слова, голос и т.п. Особенно поза надменного угнетателя над маленьким жёстко угнетённым существом - нависшая, поедающая, потрясающе воздействует когда угнетатель, вдруг, без всякой логики, без потребности, неправдоподобно демонстрирует человеколюбие и братство.
Хитрожопый поп в один миг превратил нас своим величием в маленьких, жалких, почти раздавленных бытием букашек и сам явил собой либо спасение нам, либо кару. Нет, не в его лице, в идее Бога.
Обманул, подлец!
Психология, выработанная веками действует наверняка! И многим даже нравится быть бессильным жертвенным ягнёнком. Большие дела в этом бизнесе проворачиваются, большие интересы больших людей присутствуют (так и вздрагивает рука, когда пишешь о таких больших людях, так и тянет больших писать с Большой буквы! Так, на всякий случай...).
Меж тем Жорик уселся за стол и успел уже залить томатной подливкой свою рясу, Глаша попыталась было его вразумить, но он её вмиг урезонил:
- Э, пи..й на х.., блядь ебу..я! - и всё это басом, на распев, величественно.
- Ну и усрись, пидар божий! - так культурненько отрезала Глаша и, задрав юбку, к нашему удовольствию, сделала неприличный жест рукой - Нажрался!..
- Исчадие... - только и молвил на это батюшка.
Терпко пахнет сирень, я поглаживаю свои чёрные джинсы и украдкой поглядываю на крепкий Глашин зад. Да, хорошо бы её...
Холодно и мы перебрались в дом. За окошком невероятных размеров жёлто-золотая луна, где-то лают собаки, кричат вороны, а через улицу хохочут парни с девчатами. А мы-то надрались! Водка уже льётся просто так, не причиняя нам требуемого вреда. Отец Илларион разошёлся и вопит громовым басом о католиках, о бесах и ещё яростней звучит его речь о манне небесной. И не икнёт, не пискнет, не сорвётся в фальцет! Умеют же люди! "Свят, Свят, Свят!".
02.00. Наконец мы вырываемся и уже не помышляя о сожжении стихов, кое-как добираемся домой к Нортумберленду. Нам - спать. Наши дряблые и трескучие речи против Духа и Веры, мы - поэты и неформалы, против Жреца... Как всё это утомляет! И видно лжецов, видно дешёвку и гниду, но - расслабление, невесомость, бескровие...
И тут я понял, чем брал Гитлер.
11
- А ты чего помалкивал, воинственный оратор? - зло спросил меня Нортумберленд на следующий день, когда он провожал меня и мы зашли опохмелиться в распивочную - Жора, гнида! С шалавами спит.
- А что говорить, зачем? - через силу ответил я и, глядя сквозь поэта-аннигилиста, думал: "Вот ещё один... Была б проблема! Да на кой х.. мне этот поп дался, на кой я этому попу? Вот дурак!".
- Бастион. Он, Костя, крепость. Не сдвинешь, только взрывать.
- Да-а... Пьёт он умело и болтает ловко. Даже шлюха и та – вот, мол, и здесь у меня порядок, стопудовый, во славу божью! Убедительно. Ко всей е.. матери взрывать!
Константина, видимо, вчера батюшка сильно зацепил, ну я и молчу, и Костя помалкивает.
- Братушки, двадцаткой не спонсируете? - хрипит рядом с нами мерзко-смердящее существо - Христа ради, а? С утра помираю...
Я еду в пустом, за ночь промёрзшем автобусе, мне добираться почти час. Водитель курит и меня почти выворачивает от дымка.
На чёрных джинсах какие-то масляные пятна, в карманах пусто и утро хмурое - поганое утро. Отчего-то вспомнил крепкие стройные бёдра Глаши, мелькавшие весь вчерашний день перед глазами, её несколько тяжёлый зад и тяжёлый взгляд. Да, она б/у, подпорчена... Сегодня мне гораздо меньше хочется прижаться к ней, чем вчера. И её классические, но уже болтыхающиеся от частого тисканья сиськи мне почти противны. Всё это так, да, за исключением одного - и это, употребляемое, не моё, а его - поповское. И эта мысль не даёт мне покоя; вот этот ловкий поп славно устроился в жизни! И смятения души ему неведомы, и сыт, румян, и плоть удовлетворена. Он вкушает блаженства и здесь и там; здесь ему всё и Там - душу пристроил в уютное местечко. И не Бог здесь суть, а сам человек. Умеет ли он пользоваться тем, что дано. А дано ведь многое, но в честные руки даётся лишь честный труд и копейка вознаграждения. За то и серебро не даётся - его загребают...
Мы с Костей, многие иные, мечемся, наши мысли шальные лихорадочно скачут, сомнения гложут, неудовлетворённые желания, желания неудовлетворимые - безнадёжные желания! Всё это вокруг - голодное, требующее, горящее. Что это - бесы? От лукавого искушения? Оно и хорошо бы, если б бесы, если от лукавого, тогда где наши сытые желудки, где все эти дьявольские штучки, с помощью которых Сатана души растлевает - пачки денежных знаков, халявный алкоголь, распутные девочки, где всё это? Где всё то многое запретное праведникам и ниспосланное Бесом?
Нет, здесь что-то другое, что-то с самого Начала не так было, не так как пишут. Нам не говорят всей правды. А то, что говорят, говорят пройдохи. А то, что говорим мы, слишком неубедительно, потому что мы стремительны, а всем кажется - торопятся! Потому что обнажёно выражаем свои мысли вслух, а все видят - Голую! Да, да голую - правду голую, неприглядную и неумытую, скажем прямо - голая правда всегда страшилище. Такова уж...
Надо мыть и причёсывать - поверят!
Надо приврать и припудрить - поверят!
Надо лгать и кричать: «Истинно говорю вам!» - поверят!
Тогда лишь и поверят...
Важный вид и ты птица высокого полёта! Только одна ложь (которой много), умеет наряжаться в такие сверкающие одежды, что сходит за Истину.
12
Нам не говорят всей правды, от нас что-то скрывают, но и мы не праведники! Ведь мы сами знаем, что: Золото - это большая ценность, хотя оно всего лишь химический элемент - кусок металла. В одном ряду периодической системы, рядом с цинками, хлорами, углеродами - бросовыми матерьяльчиками! Из всех этих элементов можно состряпать что угодно, хоть жареного гуся с яблоками, хоть самое натуральное дерьмо - с запахом, цветом и вкусом. Хочешь - собачье, хочешь - человеческое, а хочешь - общечеловеческое!
Но поэзии из химии не слепишь.
Холодно, хоть солнце и скоро лето. Достал из шифоньера старый китайский свитер. Тёплый, мохнатый, ярко зелёный с красной полосой. Сколько лет, а цвет будто вчера куплен! "Дружба"... Качество... СССР и КНР. Сталин и Мао...
Мы утратили или отреклись
От умения жить напряжённо -
А ведь если жизнь не трагедия,
Она - ничто.
И в свитере отчего-то холодно. Даже х.. замёрз, не то что чернила! И писать невмоготу - бывшим в употреблении девкам не нужны стихотворные излияния чувств, им надо точное и определённое; хорошее пойло, вкусная жратва, мягкое кресло авто под целлюлитною жопой и достаточно эррегированнай член в полости (в одной из полостей). Ничего предосудительного, кто хочет другого? Всем желательно. Но девки б/у живут ради этого - они согласны с тем, что их употребляют, согласны ради того, чтобы употребить и самим, хоть кроху со стола. Они вообще со всем согласны. Со всеми и на всё.
Глядишь этим бэушным девочкам в ясные глаза, даже самым хорошим, видишь затылок - голый, как пустырь. Пустота! Душа на х.. проё..а. Тело, оно вот-вот сморщится и - пи..ц!
Не вытерпеть, задыхаешься!
А по природе я русский человек и потому терплю долго-долго, даже если невтерпёж. Потом напиваюсь до свинства и снова терплю. После, может быть, десятого подобного цикла режу вены и - ни хрена не подыхаю. Потом всё сначала - терпенье и пьянка, как у маньяка. И вот он предел - пи..ц! Дошло, всё понял, поверил и всё изменил - и любовь и друзей, и... Мало ли что ещё?
Но не Родину, и не то Самое - Главное. И всё по-прежнему, всё.
Красные губы не так красны,
Как обагренные кровью камни, исцелованные
Английским мертвецом.
13
Пусти, как говорят, народ в огород... И народ вам порасскажет, наврёт после с три короба, наплетёт узоров! Я нет - я пишу не сгущая и не разбавляя, пытаюсь писать одну правду. Конечно, раз на раз не приходится, порою и сп..ш.
Я обладаю неплохим слухом, но никогда не верил таким басням, как например тому, что человек может слышать как сталкиваются атомы воздуха друг с другом. Между тем это научно подтверждённый факт.
Итак, я вышел из тяжкого недельного запоя. Пил, как уже привык, сам на сам - ужас одиночества. Но нечего, теперь лёжа на диване и глядя в потолок, безразлично слушаю, как мерно бьётся атом об атом, это действительно так. Факт. И было бы в этом что-то устрашающее, при других обстоятельствах.
Если начать прислушиваться феномен исчезает мгновенно. Надо быть безразличным и равнодушным. А когда прислушиваешься специально, то усиливается ток крови и своим шумом заглушает тонкие звуки микромира.
Действительно же страшное, для меня, во всяком случае, слушать всю ночь непрерывный мерный стук собственного сердца. Когда устанет этот механизм, замедлит свою работу и остановится?
К вечеру, одна - Нина - позвала на девичник. Такая негромкая девочка, тоненькая, грустная, неуловимо фатальная. Я долго мечтал о ней, до тех пор, пока чувства не улеглись сами собой и наши взаимоотношения приняли ровную форму.
Девичник был самый настоящий, этакий старомодный, где одни девчонки и духом женским терпко пахнет. Но с современными, как оказалось, бесстыжими штучками.
Сам по себе девичник, даже если жратвы и выпивки навалом, скучнейшая штука, хоть вой. Потому приглашают одного, не более, мужчину. Сегодня "изюминкой" был я. Завидно, да? Не спешите.
На столе водка в графине, коньяк (сладкий до тошноты, греческий), какое-то грузинское вино - его я опознал по характерным иероглифическим надписям.
Я не пью - я ем. Я поедаю жареных кур приготовленных по четырём рецептам. Пожираю фаршированные рисом бараньи лопатки, свиные отбивные, сазана в сметане и котлеты "по-пожарски". Не глядя глотаю несчитанную мелочь - салаты, винегреты, маринады. Аппетит зверский. Запиваю колой и компотом. Потею и утираюсь широким салфеткоподобным полотенцем.
И на меня смотрят шесть девочек - от 20 до 29 лет - красивы и возбужденные.
Нина - моя знакомая, две Тани и одна Вика - замужние, Юля - мать одиночка (сыну 5лет, самой 20...), и Лера - убеждённая феминистка, и сука, наверное.
Каждая готовила свое, и каждая втайне считает себя лучшей хозяйкой. Им льстит мой аппетит, они подсовывают новые и новые блюда – каждая своё. Я им не жалею похвал и ем без разбору, даже если Лера, например, наготовила целый таз растительного силоса который противно хрустит, пахнет болотом и однозначно не переваривается в желудке. А все оттого, что я абсолютно не умею вести себя в таком обществе. Ну, знаете же, не этикет, а нечто такое... И мне с забитым ртом не обязательно кокетничать и трепаться подобно дамским угодникам.
Они неполноценны, как всякие самки пред самцом.
Первый удар я выдержал, мой желудок - ещё не знаю.
Девочки приняли всего по чуть-чуть (на пробу) и я уже думал, что второй удар перенесу так же просто, как и первый, ошибся...
Пришлось имитировать умения, которых нет - умение вращаться в "изысканном" возбуждающемся обществе. Под градусом, с грехом пополам... И кстати, о грехах, грешных мыслях - это оказался третий удар, который я не выдержал, с честью.
Были танцы и девочки раскраснелись, губки припухли, глазки заструились искорками и когда я учуял их вспотевшие ароматные женские запахи, то решил про себя: "Пусть! Пусть хоть всей толпой они вые..т меня, пусть хоть насмерть зае..т! Красивая смерть для поэта!".
А Нина смеялась краем глаз, Лера - сука феминистка, чего-то нападала, придиралась и хватала за руку, одна Юля - видно намучавшаяся без мужика, устало и преданно глядела мне в глаза.
Как сказал, были танцы, был и стриптиз... Обе Тани умело, и видимо привычно целовались на кухне, хозяйка квартиры Вика пустилась в самые бесстыжие откровения из своей сексуальной жизни, в доказательство "подвигов" на фронтах блядства, достала из какого-то пыльного угла некий замшелый фотоальбом, где она ещё молоденькой студенткой, ещё не толстухой, демонстрировала неведомому фотографу свои стеснительные и убогие Ню.
Давно приметил, что большинство баб зажатых и закомплексованных в быту, становятся прямо таки развратными извращенками, стоит им только тяпнуть как следует, намешать вина с водкой иль пивом. И вообще, женщины трезвые ведут себя весьма корректно с нами, с мужиками, да и со своим братом бабой, словно коллеги по работе и ничего лишнего, ничего фривольного, и сама тема секса всегда вызывает в них кислую мину, протест и даже возмещение - мол, при мне о таком, да не сметь, да пошляки, да прочее и прочее! А пьяная баба... тут-то она и приоткрывает своё истинное лицо - у пьяной бабы одна тема - еб..я!
Ложь и лицемерие! Но и я ведь не случайно заметил, что пьяная баба лишь приоткрывает своё лицо, а открой она его полностью! Кто его знает, что там? Загадка...
Уже пошли в ход презервативы - Нинка и Лерка глупо хохоча, достали их из сумочек (!) и начали выдувать из них воздушные шарики. На хохот явились Тани, недоумённо пожав плечами, мол, какие вы ещё дети, они удалились снова на кухню, к своим "взрослым делам". Хозяйка давно уже рассказывала унылую повесть из своего четырнадцатилетия, о том, как неудачно пыталась дефлорировать себя огурцом. А Юля хоть и облизывала губы была самой простецкой покорностью судьбе; ну, будет - хорошо, ну нет - так плохо... По комнате даже струился похотливый дамский запашок!
И ничего не случилось! Ничто не кончилось ни трагически, ни счастливым исходом. Редко в моих штанах происходили такие жестокие разочарования жизнью. Да... И я начал умышленно мешать водку с грузинским портвейном (плевал я при таких обломах на сухой закон!).
Проснулся с привычной головной болью и зловещими провалами в памяти. Какое-то смутное ощущение, что я чего-то вчера натворил, беспокоило меня всё больше и больше. Рядом что-то было и я, готовясь к худшему, с трудом разодрал глаза. Однако... я был одет, значит границ, к сожалению, не перешёл.
Уткнувшись удивительно хорошим во сне личиком мне в грудь сопела Нина, Лера-феминистка мирно похрапывала где-то у меня под мышкой, небрежно кинув свои ноги на мои и бесстыдно раздвинув ляжки, молча и стиснув зубы, спала не-то Вика, не-то Юля. Левая моя рука была придавлена круглым задом одной из Тань.
Я попробовал ущипнуть зад - бесполезно. Крепкий, как хорошо накачанный футбольный мяч, он не среагировал.
Все мы валялись на полу, на коричнево-зелёном паласе, от которого попахивало мышами и чем-то неприятным, кажется похожим на мочу от вчерашнего пива.
Горячие тела спящих девчонок обложили меня со всех сторон, и я был полностью одет. Хотелось стошнить.
Куда это годится?
14
Никуда это не годится! Или, как говаривал один мой знакомый художник-баталист Саня Вагранян: "Ни в какую письку не лезет". Может быть, у него и так, он по папе армянин, у меня же другое. И мнится мне ночами лунными, тьфу-тьфу, а уж не заколдованы ли они, эти вечно ускользающие, недоступные письки? А может, они миф?
Вот и Валера, мой старинный школьный друг, тоже уверен, что бабы голые бывают лишь в порножурналах и в них же они милы и ласковы. Лишь в них женщина даёт, говаривал он, даёт и не ломается. А Валера-то знает, кое-что повидал! Полетал он на самолётах "Аэрофлота" немало, не-то главным пилотом, не-то младшим, стюардессочек, следовательно, насмотрелся. Да, в общем-то, лет десять и женат...
А Саня Вагранян уехал в Питер и там попал под троллейбус, вернулся и горько мне сетовал:
- Вот, Мишель, злая штука эта судьба; и теперь как тогда, входит плохо, выходит легко...
После травмы у него что-то там разладилось по части потенции, но девки липли к нему по-прежнему. Я, думаю, что хорошо представляю его несчастье, но своё невезенье чувствую острее.
У одного моего двоюродного брата было хуже - простатит, так ему врач в жопу пальцем лазил и приговаривал: "Смотри, парень, в этом деле самое страшное, чтоб сей процесс тебе не понравился".
Теперь мы с Саней частенько сидим вдвоём, в его роскошной и огромной квартире на улице Ленина, пьём пиво или же коньяк, посмеиваемся над собой и плюём с седьмого этажа на вас всех.
15
Вчера вечером шёл по улице Юных Коммунаров, хмурый, злой и небритый. А вечер был прекрасный, замечательный тёплый весенний вечер, с лёгким ветерком, несущим неповторимые запахи распускающейся листвы и романтичные ароматы шашлычных дымков.
Девушки на меня смотрели, но как-то неприветливо. Коммунаров ни юных, ни пожилых я не встретил. Попадались одни тинэйджеры. Всё одна какая-то шваль встречалась. И всё портила.
И вдруг навстречу из подъезда хрущёвки выпорхнула Она! Всё в ней было лёгкое, чистое и пьянящее. Я споткнулся и еле удержав равновесие, встал столбом. И прямо на её пути. В сердце эхом отдались слова: "Это судьба!". Сердце ёкнуло.
Она улыбнулась, сверкнула голубыми глазами и - беззаботно тряхнув длинными золотыми волосами, обошла меня. Словно столб!
Я обернулся и загипнотизированный долго смотрел ей вслед. А когда ветерок слегка приподнял край её короткого белоснежного платья, я замычал и сделал шаг за нею...
Но тут: бродяга, бомжара, лет под 50, а может и 25-ти, с проломленной бровью, натуральный хичкоковский монстр, дохнул гниющим мертвецом, сказал хрипло:
- Браток, двадцатки не будет, случайно, а? Горю!
Сказал по-хамски, вызвал отвращение, и всё испортил, мерзавец.
- А то, выпьем?
- Сам пей, - ответил ему и отдал двадцатку мелочью. Мог бы не давать. И не жалко таковых мне. Горите хоть в Бухенвальде! Просто я как Урсус-человеконенавистник сделал зло, а не добро; возьми и пусть продлится твоя несчастная жизнь на этой земле полной мучений. И это - зло. (Так примерно подумал я, но позже).
А девушка, прекрасная и милая, может быть моя судьба, уже впорхнула в ожидающий её "БМВ", и укатила.
Бродяга взял двадцатку, важно поклонился и, распространяя вонь гниющей рыбы, в распивочную. Взаимопонимание...
Вот интересно, стану ли я таким вот лет этак через 10?
Я представил себя заживо гниющим, с проломленной бровью, с проваливающимся сифилитическим носом, бомжарой...
Конечно, иногда занятно представить что-либо подобное, полезно представить, увидеть себя возле помойной ямы (что б не очень-то заноситься), представить и тут же мысленно перенести свою драгоценную особу со дна жизни, от дерьма на самый верх – во дворцы, на яхты и в спальни к блистательным великосветским шлюхам. Приятно.
Но нет, братцы, нет! Убейте меня пока молод я! И лучше ножом в спину, холодным и острым ножом, с узким лезвием и наборной зоновской рукояткой. А ещё лучше самому. Выйти весною в поле цветущее тюльпанами, надышаться вволю, набегаться босиком и застрелиться из маленького увесистого воронёного «Вальтера».
Маленькая дырочка с опалёнными краями напротив сердца, капелька бурой крови на белой рубахе. Всё.
Цветы стелют аромат, голова кружится от запаха цветов, без вина пьяным пьян. Вверху чистое синее-синее небо, пролетают птицы, плывут облака... А посередине, в зелёной траве лежу я. Белая рубаха как пробитое пулей знамя. Знамя поражения. Капитуляции.
И безопасные теперь для меня ядовитые змеи проползают мимо и по мне, по лицу и по груди с дырою навылет. Косятся своими холодными жёлтыми глазками в мои уже похолодевшие широко открытые, удивлённые и внезапно посиневшие глаза. И тихо, словно шелест весеннего ветра в молодой листве тополей: "Покойся без обид, покой тебе, покой, покой...". И, быть может, ещё ненужное: "Прости".
Это мужественно.
Так подумал, а вечером, когда внезапно пошёл тёплый редкий дождик, пахнуло в окно сиренью и озоном, глядя на блестящие в свете фонарей листья тополя, я выпил последний стакан водки и разрыдался.
16
У меня есть брат. Двоюродный брат. Хороший и дельный парень с понятием. Тинэйджер, но не сука. Он - Александр.
У меня есть сестра, двоюродная. И она - Анна.
И я одинок, при таких достоинствах больно. Они, мои двоюродные, ещё покажут мне говно жизни. Чувствую это, и поделать что-либо бессилен.
Я не люблю блядей и не люблю лжецов. Предателей уничтожаю.
Не по душе мне бессильные люди, люди неопределённые. Сам таков.
17
Поэт-алкоголик долго рылся во всех шкафах и нашел-таки в холодильнике почти окаменевшую краюху чёрного хлеба. С недовольным видом выложил её предо мной рядом с бутылкой и раскрытой консервой килек в томатном соусе, на грязный и шаткий стол. Быстро, хоть нервно, но точно налил в несвежие стаканы с коричневатыми чайными каёмками. Не чокаясь, без слов скоро выпили. Не могу без хлеба! Занюхал. Кильку экономим - деликатес, её мало.
Смотрю на мутные стаканы, на мутное окно - залапанное и заплёванное, в мутные глаза Андрея Алимова, поэта-алкоголика. Где-то за газовой плитой, по-партизански незримые шуршат тараканы.
Я не привередлив и так даже проще.
Константин Нортумберленд очень уважает этого собрата поэта, хотя они и незнакомы. Костя всегда с каким-то трепетом, почтением и восхищением выслушивает мои рассказы об Андрее и мнится ему этот Андрей в таких же легендарных тонах, как великие и прошедшие титаны, как Бальмонт, Белый, как Есенин с Мариенгофом... Он много раз порывался идти со мной жаждая личного знакомства с Алимовым, и всегда в последний момент не решался. Может быть, я слишком ярко рисовал маргинально-богемные замашки Андрея и Нортумберленд (парень в целом, скромный и деликатный), заранее чувствовал "явную" свою проигрышность. Алимов, он на три "Э" - эгоист, эстет и экземпляр (экземпляр ещё тот, ископаемый).
Разговор после третьей оживляется, как всегда, спорим и соглашаемся одновременно. Говорим об архиважных пустяках; быть или не быть...
- Как думаешь, Анютка, придёт? - это я спрашиваю.
- Какая х.. разница? - это отвечает он и спрашивает: - Обещалась?
- X.. его знает... - потом показываю на оконную решётку в форме огромного и вовсе не страшного паука - Что это?
- Паук.
- Большой...
- Отец делал.
- Знак наркоманов?
Тот не отвечает, и мы пьём и говорим уже за литературу и тут мы единодушны, но стоит ли об этом?
Он: Из ох..й пустоты
Не выплывут цветы...
Я: Одни зелёные кресты,
И нет п..ы, нет чистоты...
Короче, бодяга. Поэт-алкоголик, высунув язык, валится на свой знаменитый диван и засыпает. Трупом.
Вот и вся поэзия, по 150 грамм.
Я уныло созерцаю мирную физиономию Андрея, она бледна и припухла особыми желтоватыми водянистыми мешочками с красными прожилками воспалённых кровеносных сосудов - типичная рожа алкоголика. Несколько шагов до белой горячки или апоплексического удара. Только я уверен, кто-кто, но не Алимов станет таким типом, что встретился мне на улице Юных Коммунаров.
Тяжко вздыхаю, как под бременем, потом выливаю себе в стакан остаток водки - многовато, но пью залпом и не чувствую ни вкуса, ни тумана в голове. И не ловлю себя на грустных мыслях. Лишь листаю обтрёпанный порножурнал без корочки и, видно, за фиг знает какие древние годы. Потихоньку злюсь.
- Андрюха, просыпайся, волчара! - тормошу я его ногою под рёбра - Чего спать? Ну, кому говорю?!
Так всегда! Он мычит и с трудом раздирает слипшиеся мутно-голубые глаза - в глазах бессмыслица - и он тут же захлопывает их. Видно решив захлопнуть навсегда. Вид у него при этом редкостно идиотский.
- Вставай! - ору я - Я не кошмар! Какого х.. в гости звал? - пробую безотказное средство: - Андрюша, пить будешь? Водка, водка...
Сквозь полусонное ворчание следует твёрдое и раздельное: "Да", причём самым оптимистичным голосом. Но лежит пластом.
- Ах ты прыщ на теле Пегаса! Проснись, сукин кот! - свирепо выкрикиваю я и тормошу его так сильно, стаскиваю с дивана и тот бьётся головой о голый пол. Стук глухой, как у арбуза, который нечаянно роняют. И вот он уже сидит, смотрит на меня совинным взглядом, улыбается:
- Ты чего?
- Я ничего. А где картинка?! - грозно вопрошаю я и тычу ему разворотом порножурнала. Картинка действительно кем-то вырвана, остались лохмотья. Но видно, на лохмотке, что п..а крупным планом была превосходна.
- Не знаю, - наивно и чистосердечно сознаётся Андрей и виновато пожимает плечами: - Суки, вырвали.
- Враги, да?
- Они.
Если б я не знал этого молодца, я бы давно решил, что в таком убитом состоянии общаться с ним бестолку, но я знаю, что такое состояние самое естественное для него и самое плодотворное.
Я знавал одного прапорщика в отставке, на которого отставка из рядов СА подействовала катастрофично - он к жене, а не стоит! Он по девкам - не стоит и на блядей! Замечательный был мужик и тут такое горе! И один медик, коновал, ветеринар, видимо, авторитетно посоветовал прапорщику изменить образ жизни - с активного на пассивный, и посоветовал диету. Прежде чем лечь с бабой в постель отставной прапорщик выпивал полбутылки водки, наедался до отвала, выкуривал штук пять-шесть "беломорин" и только после этого приступал. Диета сработала. Другим не советовал, а прапорщику подошло.
В нашей великой стране, с немыслимым уровнем уважения к милитаризму, прапорщики, даже отставные, всегда были и будут особой категорий, как средь гражданских, так и средь своих, военных. "Кусок" - что ещё тут скажешь... Тот, кто два года мудохался в кирзе и в зелёном х/б, тот это знает. А я одних шапок-ушанок износил штук десять и это всего за две зимы.
Алимов в армии не служил, в тюрьме не сидел, отсюда его мягкотелая сущность - и рыба и мясо и гуано в одной котлете.
Вот 150 грамм и рубят...
За окном тишина - полпервого ночи. Проклятущая весна!
16
Помню многое, особенно в детстве, когда ещё жил в маленькой и пыльной деревне на окраине Советского Союза - в бывшем хуторе сперва Сибирского линейного казачьего войска - слышали "Горькая линия"? - а затем, с 1871 года, ставшие Семиреченскими казаками, с головной станицей Урджарской, тогда многое было иначе. Я не ощущал к себе сучьего отношения окружающих, хотя жизнь была такой же непутёвой.
Я приходил к другу Пашке - после болезни он был парализован и был старше меня на 10 лет - я катал его на кресле с колёсиками. Мы много болтали за разные танки, самолёты, корабли, он приучал меня к радиоделу. Болтали о бабах... Сейчас я понимаю его, а тогда... Ну что взять с сосунка, у которого ещё ни хера ни в башке, ни в штанах?
И помню, как смотрел у него дома на стену, на которой на ковре висела старая казачья шашка, с простеньким замызганным темляком и я жутко завидовал Пашке. Вот у него есть чем гордиться!.. Мои же деды сгинули в Гражданскую - причём с обеих сторон, а выжившие сгинули в Отечественную. И ничего не осталось на память о них, даже фотографий... И словно не было их и подвигов их.
Одна только память...
19
- Здесь жизнь во всём и даже в тройном одеколоне, - зевает Алимов, ищет глазами: - Где?
- Мы умрём от вскрытых вен и потому СПИД нам не страшен, да? - хмыкаю я и вижу, как тот постепенно розовеет, наливается кровью. Порядок, оживает.
- Вены не трогай! Только не их - это святое! Мы умрём от водки, или под "КамАЗом".
- Ты. Я от другого.
- Без разницы. Но где, брат мой во Христе, где?
Он жаждет водки, я молчу и хладнокровно извожу его разговорами (у нас есть ещё одна бутылка, только я её припрятал). А я ведь, точно, злой. А зло всегда в чём-то добро.
- Пей тройной одеколон, - говорю ему, а тот морщится: - Сам пей, если найдёшь. От него х.. не стоит.
- Слушай, Андрюша, что тебе даёт водка? –
Андрей психует, он понимает, что я глумлюсь над его "святынями", но и его тянет пофилософствовать.
- Как что? Ну тебя на х.., скажи, где? - он мотает взлохмаченной головой и обводит свою жуткую квартиру плывущим непослушным взглядом. Кажется, что он вот-вот распадётся на атомы. Так ветхозаветно он выглядит. И, видимо, до меня у него всё же побывала Аня, моя двоюродная сестра, и она наверняка вытянула из него все силы - пустила их на потеху плоти.
Жуткая квартира, настоящий мусорный контейнер; стены с грязно-жёлтыми обоями, побитые шкафы с редкими уцелевшими книгами, сломанный телевизор. Обрывки газет, обёрточной бумаги с жирными пятнами, стоптанные тапочки с прилипшей к подошве акцизной маркой. Какие-то пятна и подтёки, какие-то дурные запахи исходящие отовсюду - собачье ли дерьмо, или блевотина. Не суть важно. Скорее всего и то и другое и много-много разного неведомого третьего. Средь бумажек клок старой газеты, жирный заголовок мрачно сообщает: "Растлителя несовершеннолетней убили в камере. 15-ти летняя отомщена!". Беру клок, читаю. Страшное дело эти малолетки! В тюрьму не хочу, хочу по взаимному соглашению. Растлевать?..
Странная вонь щекочет нос. Е..я алимовщина! И сам не заметил, как уселся на этот диван! А этот диван имеет особенно маргинальный вид; с дырою посередине, размером с кулак, которую прожгли сигаретой лет 300 назад. Сколько он, героический, повидал на себе блядей! Оттого он и смердит, как мертвяк, и в нём, очень может быть, ютятся клопы. Диван лучший друг Алимова, после водки, разумеется. Я соскакиваю с него, как с электрического стула.
- Водка, даёт мне многое... - многозначительно бормочет Андрей и помахивает грязноватым пальцем в пространстве. Ещё немного и он начнёт мудрёно философствовать.
Злость к нему неуклонно растёт. Ведь он, х.. моржовый, подобен свинье, но он же и везунчик. Всё хорошее - кайф жизни - даётся ему в руки за просто так. Он ничего особенного не делает к тому, чтобы добиться женщины ли, денег ли, прочей жратвы. Всё это липнет к нему само, как железные опилки к магниту. В довершение зла, Алимов эстет. Таким он себя считает, такое мнение о себе он с успехом вдалбливает в пустые головки своих бесчисленных подружек. На этом он и держится, на этом падаю я.
- Вообще, Мишель, об водке говорить иль хорошо, иль никак. Условились?
Он долго мнёт сигарету, ломает её, роняет в стакан, грустно смотрит за окно. За окном лишь зелёные ветви акаций, иногда прогуливаются местные шлюхи с собачками и с испитыми рожами.
Мой приятель не любит листву - не замечает - но обожает шлюх. Так устроены поэты; чем ближе подходишь к прекрасному, тем милее всякая дрянь.
Всё прекрасное отцветает и превращается в мертвячину. И все шлюхи когда-то были милыми девочками...
Не в силах поэтов изменить происходящее, да оно и ни к чему. Поэты лишь бессильно и красиво оплакивают каждую разорванную девственность, сочиняют оды гибнущим мотылькам и прочее. Намывают золотой песок в уже нищих, растраченных душах проституток.
Жадный народ поэты. Им хочется всякую девочку самолично превращать в женщину, тогда, в этом случае, прекрасное, мол, не гибнет. Вот бред!
Алимов поэт и тем, безусловно, интересен. В нашем любимом отечестве поэтов почитают и одновременно не замечают. Андрей Алимов тот поэт, которого как поэта не читают, но как именно поэта замечают и отдают почести. Он умеет и это вдолбить в пустые, но милые головки своих... и так далее. Он вовремя научился тратить грамм чувства и не бог весть какого труда и получать за это солидный дивиденд.
- Андрей, ты не гробокопатель, ты гробовщик! - вывожу его из тревожной задумчивости - И ко всему прочему, ты х.. поэтишко.
- Может быть, - флегматично соглашается он и в свою очередь спрашивает: - А ты, Мишель, чего в водке ищешь?
- Я не ищу, я неудачник.
- Да? Корыто с трещиной?
Мы и так пьяны, я теряю нить своих размышлений, а этот приятный вечер, с порывами свежего ветра в форточку, так несовместим с моим придушенным настроением. Хочется или кричать или застыть в объятиях милой и ласковой девушки. Всё бы отдал за это, за девушку, отдал бы даже тот, недописанный ещё мною великий роман.
Андрюха совершенно глух к романтике тихих вечеров и на природу ему плевать (для него существует одна природа - природа половых (читай – алкогольных) влечений). Теперь он вошёл во вкус и качал гвоздить меня:
- Неудачник! Это всё равно, что решето - сколько ни пей, всё напрасно. Лишь водку переводишь. В деле удачи водка не поможет.
- При чём тут "поможет-не поможет"? Я и не ищу помощи, ищу утешенья.
- "Утешение" - поповское слово.
- Зато верное. В нём нечто влекущее.
- Эх, Мишель, как не понимаешь?.. Это блядство души. А утешенье - несчастным.
- Да, а мы счастливы?
- Зависит от данной минуты, что мы в эту минуту подразумеваем под "счастьем". В данную минуту - пуст мой стакан или полон. Он пуст и несча...
- На! - прерываю его я и выставляю на стол бутылку "Столичной" - За холодильником была. Счастлив?
- Вполне, - удовлетворенно воркует Андрей и резонно спрашивает: - А ты?
- А я нет.
- Подтверждается. Значит твоё счастье не в стакане. И ты зря переводишь…
Он не договаривает и с удовольствием потряхивает бутылкой.
- Да и твоё счастье не в стакане, загнал ты себя в этот стакан...
- Может быть, может... Но и ты, может, только время теряешь на пьянки, на разговоры, на стихи...
- Я запутался в этих дорогах.
- Да не в дорогах, в своей нерешительности.
Он быстро наливает, себе, пьёт, вместе с табачными крошками - это не смущает. Я тоже наливаю, нехотя, из принципа пью. Слушаю. Алимов имеет стаж везунчика и героя-любовника, имел визиты к венерологу... такой зря не скажет, но и не зря, специально не пошевелит пальцем.
20
Музыка -
Музыка губ обнажённых...
Случайно, совершенно случайно встретил у Никольской церкви Лору. Идёт навстречу мерно, округлившаяся, румяная. А раньше не шла - танцевала и легко бегала на свиданья со мной.
Тускло-пустые глаза вмиг озарились и улыбка, прежняя её неудержимая и детская улыбка растревожила моё спокойное сердце. И тут же почувствовал скребущий под ложечкой шёпот совести; наверное, тут и я виноват, в том, что она так изменилась и как-то вся потухла. То что бросил её в пик её влюблённости, подрезало её... Не было другого выхода.
Она - первая моя женщина. Охотно и увлечённо, терпеливо и внимательно - главное внимательно - обучала она меня тайнам любви. И даже когда мы расстались, она не упускала случая чтобы посоветовать или помочь мне, а я в этом частенько нуждался - любовные неудачи били меня как град посевы.
И сколько было у неё до меня мужиков и сколько ещё после! Это-то и определило наши отношения, с самого начала; никакого счастья, никакого будущего, несмотря ни на какую любовь, быть уже не может. И любил я её горькой и раненой любовью. Она меня - как единственный шанс... И отдавала мне всё до последней крупицы, всё что может отдать растраченная проститутка, то что не берут случайные и мимолётные мужчины - душу. Потаённые и неведомые её глубины, одновременно удивительные и страшные. А я просто не выдержал тяжести её искорёженной и перекошенной судьбы, которая вывалилась на меня вместе с любовью.
Не было в ней ни одного места, которое не трахали тысячу раз. Не было у неё слов, даже самых прекрасных, которые бы она уже не произнесла сотни раз разным пьяным "прохожим", слов сохранённых для меня. И как я мог верить этим словам?.. Со мной она платила за прошлые "грехи".
Я слушаю ее, и холодная колючая злость поднимается в душе: "Ну и что, каков результат? Зачем ты меня учила всей этой премудрости?".
Потом успокаиваюсь и уже согласен с тем, что и за то спасибо.
Хотел бы я взглянуть Лоре в глаза в тот момент, когда она впервые изменила мне с невзрачным типом, имени которого я не узнаю никогда. Взглянуть так глубоко, чтобы почувствовать её сердце. Что она чувствовала в тот момент?
Конечно, она чувствовал своё, сексуальное, и не могла чувствовать ни моего одиночества, ни горя брошенной собаки.
Но я ждал и надеялся и теперь жду и надеюсь. Жду уже других, надеюсь... да так же, по-прежнему, на чудо.
"И я знаю, что мне никогда не найти всё то, что можно, наверное, легко украсть". Слава и добрая память Сашбашу.
21
И снова - за окном тишина, полпервого ночи. Проклятущая весна!
Я не сука, но отношение окружающих ко мне именно сучье. И не знаю, почему так. А всё в этом мире этой и каждой весной е..я, и я е..у, да мозги свои и жизнь свою в конец зае..л!
Полпервого ночи, шуршат за окном ветки чахоточных деревцев - они похожи на измождённых старух. Бесшумно, воровато озираясь, крадутся коты. Фонарь заливает лужи мёртвым синеватым светом, отчего лужи кажутся наполненными ртутью. Где-то кричит ребёнок, на него покрикивает мать, слышна далёкая музыка и гортанные выкрики пьяных мужиков.
Сосу валидолинку, попиваю корвалолчик... "Нервы, брат, нервы шалят". С верхних этажей летит огоньком сигарета и парень с девушкой вдруг громко: "Га-га-га!.." - я знаю откуда. И снова нервы тук-тук-тук и как пилорама: "В-э-з-р-вшшш"!
С чего нервы? С чего это смех с верхних этажей пилорамой отдаётся? С чего шуршанье болоньевой куртки в подъезде вынуждает глотать дрянь? С того, что полпервого ночи и я одинок в этом мире, как последний зубчик в распоследней расчёске. С того, что в подъезде соседка е..я с каким-то уродом.
Я сосу валидол, она же... другое.
Она мне нравится все последние года 3-4. Симпатичная такая, длинноволосая и светленькая, аккуратненькая и в школе была отличницей. И я ей наверняка нравлюсь, только... только старше я её намного, а она чего-то ждала.
А тут подслушал - ну что же, что некрасиво? - у самой двери и стоны, и всхлипы, и уродливое чавканье губ в момент выброса спермы.
Так её! Так, туда и сюда! Давай, мачо, делай.
Ну и правильно, чего ей ещё ожидать? Захотелось. Не меня же ожидать каких-нибудь лет десять!
Лишь недавно прекрасный, взвивавшийся к тучам,
Стал таким он бессильным, нелепым, смешным!
Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим,
Тот, глумясь, ковыляет вприпрыжку за ним.
Так, Поэт, ты паришь над грозой, в урагане,
Недоступный для стрел, непокорный судьбе,
Но ходить по земле среди свиста и брани
Исполинские крылья мешают тебе.
Я когда-то, когда ещё был поэтом, сравнивал себя с Альбатросом, но это зря я делал...
22
Алимовокая квартира становится мне вдруг милой и бурые пятна кое-где на стенах (следы кровавых мордобоев) не выглядят зловеще, наоборот гармонично присутствуют.
В дверь стучат, Андрей бледнеет и шепчет белыми губами:
- Это менты. Нас нету. Соседка настучала.
Меня давно пасут!
Но это не менты, это алкаши и наркоманы, живущие по-соседству, значит со всех микрорайонов. Через полчаса они матерясь и гулко икая уходят.
- Вот твари! - ругается поэт, но тут же начинает их расхваливать, как настоящих и нормальных друзей. Потом зубами сдирает пробку у бутылки. А мне всё это давно осточертело.
- Не буду, - мотаю я головой - Сейчас вырвет.
- Будешь, - как-то уверено, как тот отец Илларион, утверждает Андрей и кивает на дверь сортира - Меня этим не удивишь. Там унитаз.
- А у тебя загрызть есть чем?
- Ну, ты пожрать горазд! В холодильнике колбаса.
- И ты молчал?! - ядовито рявкаю я (мы уже пили и пили без всякой закуски), заглядываю в холодильник. Он пуст.
- Пить не буду, - заявляю я, но Андрюха тут же находит банку шпротов, почему-то на книжной полке. Находит одну луковицу и три молоденьких огурчика.
И снова болото, снова всё разговоры, которые утром забудешь. Слова, слова... Сто, триста раз уже сказанные. Сказанные пьяным от пьяных, сказанные от чистого сердца. И всё же пустые и стремительно опустошаемые фразы, мысли, понятия, идёт девальвация, или как там - обесценивание чувств.
Проболтали и профантазировали реальные возможности воплотить мечту. А мечты у всех разные и все одинаковы - хочется, чтоб было хорошо. А хорошо - тогда счастье.
Прекрасное прекрасно для счастливых,
Уродливо для скорбных И зримо даже для слепых.
Иду домой, иду неспокойно, плетусь мимо ароматно пахнущих шашлыков, мимо девочек и мальчиков, пьющих пиво и уверенно умело целующихся взасос. Всё мимо... Всё не моё... А что мне? Пошарил-пошарил по карманам и нашёл, что ещё - да конечно на штоф.
Прекрасный вечер, чудесный вечер - весна и природа, даже эти ободранные кусты так и рвутся из корней, рвутся куда-то, зачем-то под золотым лунным диском. А рядом звучит музыка, слышен пленительный девчачий смех, пахнет винами, блюдами, зовуще мигают лампы и в горящем неоне длинные женские ноги в гладких матово отливающих колготках.
Тут мало людей и не всегда тела пахнут телами и всё же, не только дым сигарет, не только сделки - тело на деньги - тут ещё бывает несколько большее.
Что дальше? Не спрашивайте. Нет. Дошёл до дому, дотащился до кровати. Всё.
А где-то там, в пустой и холодной квартире, на голом полу остался один Алимов Андрей, поэт-алкоголик. Счастливый в своём тяжёлом алкогольном сне. Так счастливы бывают ещё самоубийцы.
23
Прошло невесть сколько времени – дней и недель, словно год...
В саду у Нортумберленда, словно выпал снег. Белое на зелёном. Цветут яблони. Костяновская бабка нагнала ядерной самогонки, а я бы предпочёл что попроще.
Не хватает простоты, не хватает мне безмозглости. Во всём есть свои глубины, свой смысл и свои первопричины. Глупый мудак не задумывается и легко, как по льду, скользит в деле жизни – приз ему! А я кашалотом ныряю, рою и как всегда – под глянцевой, гладкой корочкой встречаю толщу дерьма, мочи и прочих гнусно смердящих выделений. А смысл дремуч и прост: ты жрёшь – тебя жрут; торопись сожрать, не то сожрут другие; даже сытым жри, чтоб не всякий мелкий хищник тебя слопал, и т.д.
Или – лижу п..у, и тебе пососут, а не пососут – всё одно, вкусно. И первопричин – одна – Я, Моё, Себе, Хочу, Собственное, Личное... Такая срань.
В здоровом теле – здоровый х..
А в теле хилом – одни глисты,
Такая сука!.. А ты поплюй,
Одни проблемы от красоты!
И, кстати, о красоте. Нортумберленд поведал, что отец Илларион изгнал Глашу. Кричал на весь «шанхай», мол, она блудливая, строптивая и – геенна огненная, одним словом. А на другой день к нему заявилась некая Вероника – «двоюродная сестрёнка»... По виду она годилась ему в дочери и, по словам набожной старушки, соседки батюшки, отец Илларион в тот же вечер напился свиньёй, напоил и «сестрёнку» Веронику, назывался Жориком и... в общем, стоит ли продолжать?
От Нортумберленда я отправился к Валере, но тот был в рейсе – улетел куда-то, зараза, на «Ту-154».Улетел и не разбился, везунчик.
Этим же вечером я дал себе слово:
- Всё, бросаю пить! Гадом буду!
- А ты и есть, он... – ответило как бы эхо на пустынной улице, помолчало и добавило – В прочем, твоё дело...
24
Милые мои сластолюбцы, блудодеи, особо милые женщины и девочки, имеющие зуд возжеланий. Задвиньте за шкаф свои интересные пневматические страсти, закройте ладошкой свои интересные голодные штучки. Всего на минуту. Минута немного, достаточно чтобы смачно зевнуть. Ваши аппараты, почитатели похоти, останутся в целости и готовности за эту минуту. Итак, не о вас, имеющих слабость, а также не о тех, кто слабость имеет, но не умеет её удовлетворить.
Даже не глядя в затемнённые стёкла лимузинов, не видя за ними аморфные раскормленные морды буржуев-бандитов, не видя их разодетых шлюх, их бычьешеих телохранителей, их прочих слуг, служанок, прислужников, не читал даже газеты "Лимонка", можно уметь ненавидеть. Можно хранить свою ненависть на кончике духовного штыка.
"Меня достали! Дерьмо! Гиены и падаль!" - так взвопила моя душа. Сперва напряглась, вздрогнула и как разорванная струна визгнула: "Ненавижу!".
Ещё ночью я проснулся от этих мыслей и мне стало невмоготу, тошно, до скрежета зубов. "Который год и всё одно и то же!".
Ощущение, что ты тонешь в ворохе, в море чужих презервативов.
Встаю, включаю на кухне свет, завариваю чай и достаю из дальнего угла в шкафу плоскую чёрного дерева коробку. В ней табак и глиняная трубка - точная копия известной трубки пирата Дэвиса, оригинал которой некогда я выпрашивал у одного известного московского писателя. Но писатель трубку уже успел подарить одному не менее знаменитому югославу, мне подарил фотографию. Я долго бился, прежде чем сумел слепить и обжечь в муфельной печи глиняную трубку-копию. Янтарный мундштук и серебряное скрепляющее кольцо дались мне легче и удачней. Обычно я курю сигареты из самых дешёвых, в крайних и тяжких случаях достаю трубку. Набиваю её табаком "Золотое руно" - ценители говорят, что этот табак дерьмо - потом раскуриваю и долго дымлю. Хорошие мысли приходят под трубку.
Сейчас ничего не идёт, одна неопределённая злость хлещет. "Дрянь и дрянь, всё падаль и мразь, всё гиены и шакалы". И вроде бы есть и силы и желание и возможности изменить не устраивающий лично меня мой личный образ жизни. Удовлетворить все с в о и слабости и стать гармоничным, сильным и прочее. Но... всё идёт по-прежнему!
Такая порода, которым своё личное лишь тогда удовлетворимо, когда удовлетворены личные потребности близких, окружающих. Одним словом: "Даёшь мировую революцию!", или "Справедливость для всех!".
Да ну тебя с твоими возвышенными идейками, с патетикой! - посылаю я сам себя - Борись за миг радости, за свой кусок хлеба!..
Стоп! За кусок хлеба - и тут принцип: никогда за хлеб не драться. А в остальном, ну - согласен. За своё личное счастье, за любовь борюсь (не дерусь, а именно – борюсь). И бывают моменты побед, бывают месяцы поражений. Но всегда иду до конца. И - всё по-прежнему! "Дрянь и дрянь. Гиены и падаль!".
Я - неудачник.
Так было не всегда. Когда-то меня ничто не доставало. Да-да, я был толстомордым, с пузцом и отвислой задницей, и я был поэтом. Теперь всё наоборот. Мне говорят: это хорошо, на тебя приятно посмотреть, ты выглядишь моложе.
Но я не пищу стихов!
А ещё раньше я носил узкие драные джинсы, чёрные майки со страшными рожами монстров на них. У меня были чёрные и красные кожаные ремни, браслеты и такие же перчатки без пальцев. Всё было усеяно устрашающими рядами блестящих заклёпок и шипов. Количество разных цепей доходило до тридцати штук. Принимая во внимание обычное бытовое неудобство от этих предметов, надо ещё помнить об другом - те времена, когда я таскал подобные атрибуты, и умонастроения окружающего люда.
Распустив длиннющие волосы, яростно взлохмачивая их и не жалея мерзко воняющего лака для волос "Прелесть", я брал под мышку небьющийся магнитофон "Романтик" и шёл по улицам с дерзким видом в компании таких же как и я друзей. Под рёв гитар и марш тяжёлых ритмов мы шествовали на "пятак", и что-то было в этом страшного, какие-то отголоски факельных шествий штурмовиков 33-го года...
Мы одевали чёрные очки, чтобы не видеть серый окружающий мир. Но видимо, эти очки всё равно были "розовыми" - мы были честны, наивны, полны оптимизма. Хотя частенько и мы показывали свои острые зубы серому миру, но чаще выходило наоборот. (Я так думаю, это уже сейчас, что большинство одевает чёрные очки не от яркого солнца и не для того, чтобы не видеть серость мира - одевают чтобы скрыть неуверенность в своих глазах, тусклую искру инстинктивного страха).
Прохожие сторонились нас и говорили друг другу:
- Вот оно нынешнее поколение! Молодёжь! Волосатые, наглые, нетрезвые!
- А матерятся-то, и что девки, что парни! Да и не разберёшь их...
- Совсем ох..и, подонки! В наши времена их бы быстро!..
А те, кто был понятливей, кто сохранил в себе хоть нечто от Ремарка, те просто молчали. Не осуждая и не приветствуя. Кто-то старался понять: чего они, мол, хотят, что им надо?
В общем-то, считали нас мусором, который надо мести железной метлой. И, в общем-то, во многом они были правы.
Лишь девчонки-школьницы и совсем сопливый контингент восхищённо смотрели нам вслед, тихонько писались и шептались: "Вот, неформалы! Забойный рок слушают, классные пацаны!".
Мы были не такими и не этакими, так просто существовали, в такой форме и почти все старались делать вид. Позировали, нагоняли на себя мужественный и мрачный образ. Лишь у единиц за позой стояло нечто большее.
Атрибутика и принадлежность к неформалам было лучшим средством запросто снять девчонку и запросто послать её утром подальше. Стиль жизни...
И это определяло многое, заставляло сбиваться в стада металлистов, панков, рокеров. Толпа себе подобных лучшее средство компенсировать свою личную неполноценность, рождённую закомплексованностью. И вот я - "неполноценный" - влился в толпу "неполноценных", ощутил гармонию, и толпа действительно была гармонична и вполне полноценна.
Теперь от моей экипировки экс аса-металлиста остались жалкие крохи - на память. Они лежат скрюченные и сморщившиеся в нижнем отделении шифоньера, вместе с моей дембельской парадной формой сержанта СА. Там же хранились три ножа - один кнопочный, два обычных, по форме кинжалы. И их я носил в юности - редко выходил без ножа в кармане на улицу. Такое было время...
Цепи и заклёпки потускнели, шипы и зиг-молнии утратили воинственный вид, черепа бессильно и совсем уж не грозно скалятся, кожа ссохлась, а последнюю чёрную майку с картинкой "АССЕРТ" в трёх местах прогрызла моль. Всё роздано подрастающему дерзкому поколению, которое, конечно же, уже не то... не то. Но и среди этого поколения "Пепси", "Памперс" и "Тампакс" встречаются хранители древностей. Не только тинэйджеры и мачо, не только мочалки и плесень, встречаются настоящие хищники и настоящие сильные духом ученики Че Гевары. И гораздо реже встречаются просто приличные девочки.
Теперь неформалов нету - теперь все неформалы, индивидуальности, чём моя доля сомнений. Но форма существования, именно такая.
Иногда я достаю свои экспонаты на свет, примериваю и вспоминаю "Времена былые, добрые и славные".
Вот тяжёлый металлический браслет с короной - он что надо! Этой короной на одном концерте я разодрал руку одной девчонки - она не в такт со всеми выбрасывала руку с "козой" и поплатилась, сама виновата. Этот вот перстень с монстровской черепушкой - некогда моя гордость, все завидовали. Подарок друга из Оренбурга. А ныне - это просто несколько грамм серебра, невзрачная штуковина, "болт". Друг уехал в Оренбург много лет назад, Сева Блюмштейн, по кличке Мосол. Он таскал в виде амулета здоровенную отполированную кость чёрного цвета. Просверлил дырочку, продел цепочку, пристегнул к поясу и всё - он уже этим стал интересен. Теперь этим не удивишь и девочку не охмуришь. А кость неизвестного животного.
Вот фотка Лоры с душещипательной подписью: "Любимому... Единственному... На вечную память...". Инсинуации жизни... фотография залита чем-то коричневым. Это что-то коричневое - моя кровь.
Многое на память приходит и хорошее и плохое, и первые поцелуи и славные "серые фуражки" и их отделения и опросы.
Всё это уже, увы, История. И, слава Богу.
Выхожу из дома не оглядываясь. Дверь сама захлопнется, когда-нибудь навсегда. И - свежесть молодой листвы, молодость и моя и молодость весны. Звуки и запахи - живой!
А где-то там, один в пустой квартире на голом полу лежит Алимов... И это то же жизнь. И об этом не надо забывать. Но где же всё то, что заставляет волноваться крови, от чего так легко теряешь голову и беззвучно плачешь без слез, от счастья? И нет опьянения без вина. Нет.
И это значит - скоро старость.
25
Не верю в загробную жизнь, верю в великую силу и правду жизни. Верю в её конечную великую справедливость. Так должно быть и так будет. Верю! Оттого что несчастен. Оттого что был счастлив. Оттого что одинок и оттого, что был поэтом.
* * *
В этой повести использованны мои стихотворения и стихи английских поэтов:
Томас Стернз Элиот
Уильям Батлер Йетс
У. Оуэна
З. Сассуна
Р. Олдингтона
И, кажется, Э. Ситуэлла
Для связи с Автором: pretich2005@yandex.ru